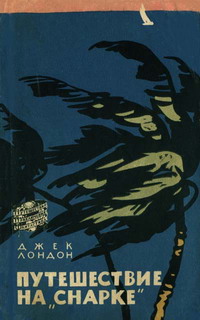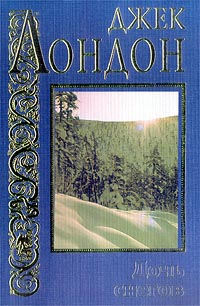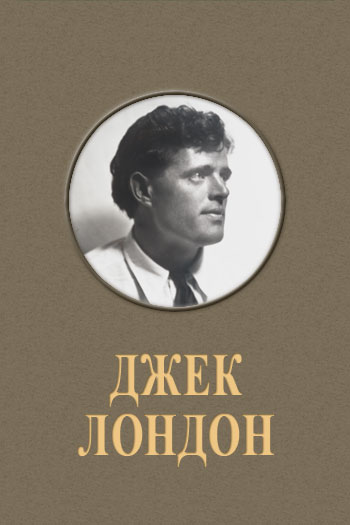- Сын Волка
* * *
Это рассказ о мужчине, который не умел ценить свою жену по достоинству, и о женщине, которая оказала ему слишком большую честь, когда назвала его своим мужем. В рассказе также участвует католический священник-миссионер, который славился тем, что никогда не лгал. Священник этот был неотделим от Юконского края, сросся с ним, те же двое оказались там случайно. Они принадлежали к той породе чудаков и бродяг, из которых одни взмывают вверх на волне золотой лихорадки, а другие плетутся у нее в хвосте.
Эдвин и Грэйс Бентам были из тех, что плелись в хвосте; клондайкская золотая лихорадка 97-го года уже давно спала: она прокатилась над могучей рекой и улеглась в голодном Доусоне[1] . Юкон славно поработал и уснул под толстой, в три фута, ледяной простыней, а наши путники только успели добраться до порогов Файв Фингерз, откуда до Золотого Города оставалось еще много дней пути – и все на север!
Осенью здесь забивали скот в большом количестве, и после этого осталась порядочная куча мясных отбросов. Трое спутников Эдвина Бентама и его жены, поглядев на кучу и наскоро прикинув кое-что в уме, почуяли возможность наживы и решили остаться. Всю зиму торговали они морожеными шкурами и костями, сбывая их владельцам собачьих упряжек. Они запрашивали скромную цену: всего лишь по доллару за фунт, разумеется, без выбора. А через шесть месяцев, когда возвратилось солнце и Юкон проснулся, они надели пояса, тяжелые от зашитого в них золотого песка, и пустились домой, в Южную Страну. Там они проживают и по сю пору, рассказывая всем о чудесах Клондайка, которого и в глаза не видывали.
Эдвин Бентам, лодырь по призванию, уж, верно, принял бы участие в мясной спекуляции, если б не его жена. Играя на тщеславии мужа, она внушила ему, что он принадлежит к тем незаурядным и сильным личностям, которым дано преодолеть все препятствия и добыть золотое руно. Почувствовав себя и в самом деле молодцом, он обменял свою долю костей и шкур на собаку с нартами и повернул лыжи на север. Само собой разумеется, Грэйс Бентам не отставала от него ни на шаг; больше того, уже после трех дней сурового пути они поменялись местами: женщина шла впереди, а мужчина за ней следом по готовой лыжне. Конечно, стоило кому-нибудь показаться на горизонте, как порядок восстанавливался: мужчина шел впереди, женщина сзади. Таким образом, перед путниками, которые появлялись и исчезали, как привидения, на безмолвной тропе он сохранял свое мужское достоинство незапятнанным. Бывают и такие мужчины на свете!
Для нашего рассказа нет нужды углубляться в причины, побудившие этих двух людей произнести перед алтарем торжественную клятву. Достаточно того, что в жизни так бывает; а если мы будем слишком докапываться до сути подобных явлений, мы рискуем потерять нашу чудесную веру в то, что принято называть целесообразностью всего сущего.
Эдвин Бентам был мальчик, по какой-то оплошности природы наделенный наружностью взрослого мужчины; такие мальчики обычно с наслаждением терзают бабочек, прилежно обрывая им крылышки, и трясутся от страха, завидя какого-нибудь юркого смельчака-мальчишку, хотя бы и совсем малыша. За мужественными усами и статной фигурой, под поверхностным лоском культуры и светских манет скрывался эгоист и слюнтяй. Разумеется, он был принят в обществе, состоял в различных клубах; он был из тех, что оживляют своим присутствием светские рауты и с неподражаемым жаром произносят очаровательные пошлости; из тех, что говорят громкие слова и хнычут от зубной боли; из тех, что, женившись на женщине, доставляют ей больше мук и страданий, чем самые коварные соблазнители и охотники до запретных наслаждений. Таких людей мы встречаем чуть ли не каждый день, но редко догадываемся об их подлинной сущности. Лучший способ (не считая брака) раскусить такого человека – это есть с ним из одного котла и укрываться одним одеялом в течение, скажем, недели – срок вполне достаточный.
В Грэйс Бентам прежде всего поражала девическая стройность; при более близком знакомстве перед вами раскрывалась душа, рядом с которой ваша собственная начинала казаться ничтожной и мелкой и которая вместе с тем была наделена всеми элементами вечной женственности. Такова была женщина, которая вдохновляла и ободряла своего мужа в его походе на Север, прокладывая ему дорогу, когда никто не видел, и втихомолку плача оттого, что она женщина и что ей не дано больше сил.
Так прошли эти столь несходные между собой люди весь путь до старого форта Селкерк и дальше – все сто миль унылой снежной пустыни до реки Стюарт. И вот на исходе короткого дня, когда мужчина бросился в снег и захныкал, как ребенок, женщина привязала его к нартам и, закусив губу от боли, помогла собаке дотащить его до хижины Мэйлмюта Кида. Хозяина не было дома, но оказавшийся там скупщик, немец Майерс, поджарил им огромные отбивные котлеты из оленины и приготовил постель из свежих сосновых ветвей.
Лейк, Ленгам и Паркер находились в большом волнении, да и было от чего.
– Эй, Сэнди! Послушай, ты можешь отличить филе от вырезки? Да иди же сюда, помоги мне!
Этот вопль о помощи исходил из кладовой позади хижины, где Ленгам безуспешно сражался с мороженой лосиной тушей.
– А я говорю: занимайся посудой и ни с места! – скомандовал Паркер.
– Послушай, Сэнди, будь другом, сбегай в поселок Миссури и займи у кого-нибудь корицы! – взывал Лейк.
– Скорей, скорей! Да что же ты... – Но тут в кладовке с грохотом посыпались ящики и куски мороженого мяса, заглушив отчаянный призыв Ленгама.
– Послушай, Сэнди, что тебе стоит добежать до Миссури?..
– Оставь его, – перебил Паркер. – Не могу же я в самом деле месить тесто для лепешек, когда со стола не убрано!
Постояв с минуту в нерешительности, Сэнди вдруг сообразил, что он «человек» Ленгама, с виноватым видом бросил засаленное полотенце и поспешил к своему хозяину на выручку.
Эти многообещающие отпрыски богатых родителей устремились в Северную Страну за славой, предварительно набив себе карманы деньгами и прихватив каждый своего «человека» для услуг. Два других «человека», к счастью для себя, находились в отлучке; их послали к верховьям Уайт-ривер на розыски каких-то мифических залежей золотоносного кварца. Поэтому Сэнди приходилось обслуживать трех дюжих молодцов, из которых каждый считал себя специалистом в области кулинарии. Уже дважды в это утро казалось, что вся компания распадется. Однако разрыва удалось избежать благодаря тому, что каждый из трех рыцарей кастрюльки согласился пойти на уступки. Наконец изысканный обед, плод коллективных усилий, был готов. Джентльмены, чтобы устранить возможность недоразумений в будущем, уселись втроем играть в «разбойника»: победитель снаряжался в весьма ответственную командировку.
Это счастье выпало на долю Паркера. Расчесав волосы на прямой пробор, натянув рукавицы и надев шапку из медвежьего меха, он отправился к жилищу Мэйлмюта Кида. Вернулся же он оттуда в сопровождении Грэйс Бентам и самого Мэйлмюта Кида. Грэйс Бентам выразила свои сожаления по поводу того, что ее муж не может насладиться их гостеприимством, так как отправился осматривать россыпь у ручья Гендерсона; Мэйлмют Кид еле волочил ноги: он только что вернулся из похода по снежной целине вдоль реки Стюарт. Майерс отказался от приглашения, так как был поглощен новым экспериментом: он пытался заквасить тесто с помощью хмеля.
Ну что ж, с отсутствием мужа они могли примириться, тем более что женщина... Они не видели ни одной женщины целую зиму, и появление Грэйс Бентам предвещало новую эпоху в их жизни. Молодые люди в свое время окончили колледж, были настоящими джентльменами, и сейчас все трое тосковали по удовольствиям, которых так долго были лишены. Грэйс Бентам и сама, вероятно, испытывала такую же тоску; так или иначе, это была первая светлая минута после многих беспросветных недель.
Но только поставили на стол знаменитое блюдо, творение рук искусника Лейка, как раздался громкий стук в дверь.
– О! Мистер Бентам! Заходите, пожалуйста! – сказал Паркер, вышедший к дверям, чтоб посмотреть, кто пришел.
– Моя жена у вас? – грубо оборвал его гость.
– Здесь, здесь! Мы просили Майерса передать, что ждем вас. – Озадаченный странным поведением гостя, Паркер пустил в ход свои самые бархатные интонации. – Что же вы не заходите? Мы так и ждали, что вы вот-вот появитесь, и поставили для вас прибор. Вы как раз поспели к первому блюду.
– Проходи же, милый Эдвин, – прощебетала Грэйс Бентам из-за стола.
Паркер посторонился, чтобы пропустить гостя.
– Я пришел за своей женой, – повторил Бентам. В его хриплом голосе послышались неприятные нотки убежденного собственника.
Паркер оторопел. С трудом удержавшись, чтобы не съездить невеже по физиономии, он так и застыл в неловкой позе. Все встали. Лейк совсем растерялся и чуть было не спросил Грэйс: «Может быть, останетесь все-таки?»
Потом поднялся прощальный гул: «Очень любезно с вашей стороны...», «Как жаль...», «Ей-богу, с вами как-то веселее стало...», «Нет, право... я вам очень, очень благодарна...», «Счастливо добраться до Доусона» – и все в таком роде.
Под аккомпанемент этих слов жертву закутали в меховую куртку и повели на заклание. Дверь захлопнулась, и трое хозяев грустно уставились на покинутый гостями стол.
– Ч-черт! – В воспитании Ленгама имелись значительные пробелы, вследствие чего его лексикон был однообразен и невыразителен. – Черт, – повторил он, смущенно сознавая все несовершенство этого возгласа и тщетно пытаясь припомнить какое-нибудь более крепкое выражение.
Только умная женщина способна восполнить своими достоинствами многочисленные недостатки ничем не одаренного мужчины, своей железной волей поддержать его нерешительную натуру, вдохнуть в его душу свое честолюбие и подвигнуть его на великие дела. И только очень умная и очень тактичная женщина может проявить при этом столько тонкости, чтобы мужчина, пожиная плоды ее усилий, поверил, что достиг всего сам, своими трудами.
Этого как раз и добивалась Грэйс Бентам. Не имея за душой ничего, кроме нескольких фунтов муки да двух-трех рекомендательных писем, она тотчас по прибытии в Доусон принялась усердно выталкивать своего большого младенца на авансцену. Это она растопила каменное сердце грубого невежи, который вершил судьбами в Компании Тихоокеанского побережья, и добилась у него кредита в счет будущих удач; однако все документы были оформлены на имя Эдвина Бентама. Это она таскала своего младенца по руслам рек, с одной отмели на другую, заставляя его проделывать головокружительные походы по скалистым берегам и горным кряжам; однако все говорили: «Что за энергичный малый этот Бентам!» Это она изучала местность по картам и беседовала с приисковыми старожилами и потом вбивала географические и топографические сведения в его пустую башку; а люди удивлялись тому, как быстро и досконально он узнал край со всеми его особенностями. «Конечно, – говорили они, – жена у него тоже молодчина». И лишь немногие, раскусив, в чем дело, жалели ее и воздавали ей должное.
Вся работа ложилась на Грэйс; все награды и похвалы доставались Эдвину. На Северо-Западной территории замужняя женщина не имеет права делать заявку или записывать на свое имя участок, будь то отмель, россыпь или кварцевая жила, поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти самому к уполномоченному по золоту и оформить заявку на 23-й горный участок, Французский Холм, второй ряд. А к апрелю месяцу они уже намывали золота на тысячу долларов в день, и таким дням не видно было конца.
У подножия Французского Холма протекал ручей Эльдорадо, и на одном из прибрежных участков стояла хижина Клайда Уортона. Пока еще он не намывал на тысячу долларов в день, но отвалы у него росли с каждым часом, и близилось время, когда в течение одной короткой недели в его желобах должны были осесть сотни тысяч долларов. Он часто сидел у себя в хижине, попыхивая трубкой и предаваясь чудесным грезам (а грезил он отнюдь не об отвалах, ни даже о полутонне золотого песка, хранившегося в громадном сейфе Компании Тихоокеанского побережья).
Между тем в хижине на склоне холма Грэйс Бентам мыла свою оловянную посуду и, поглядывая на участок под горой, тоже мечтала и тоже отнюдь не об отвалах и не о золотом песке. Эти двое то и дело попадались друг другу навстречу, и неудивительно: ведь тропинки, которые вели на их участки, пересекались, а кроме того, в северной весне есть что-то такое, что располагает людей к общению друг с другом. Однако ни единым взглядом, ни единой обмолвкой не позволили они себе обнаружить то, чем были переполнены их сердца.
Так было вначале. Но вот однажды Эдвин Бентам поднял руку на жену. Все мальчишки таковы: сделавшись одним из королей Французского Холма, он возомнил о себе и позабыл все, чем был обязан своей жене. Узнав об этом в тот же день, Уортон подстерег Грэйс Бентам на тропинке и обратился к ней с несвязной, но горячей речью. Она была очень счастлива, хоть и не стала его слушать, и взяла с него обещание никогда не говорить ей подобных глупостей. Ее время еще не пришло.
Но вот солнце пустилось в обратный путь на север, полночный мрак сменился стальным блеском рассвета, снег начал таять, через заледеневшие пороги вновь хлынула вода, и старатели приступили к промывке. Желтая глина и куски горной породы дни и ночи напролет проходили по круто наклоненным желобам, оставляя щедрую награду сильным людям из Южной Страны. В эту-то горячую пору и пробил час для Грэйс Бентам.
Этот час наступает в жизни каждого, в жизни каждого мало-мальски живого человека. Иные ведь безгрешны не оттого, что так уж дорожат добродетелью, а просто по лени. Те же из нас, кому приходилось поддаваться искушению, знают, что это такое.
В то время как Эдвин Бентам стоял у стойки бара в Форксе и глядел на весы, на которых лежал его мешочек с золотым песком, – увы, сколько этого песка перекочевало уже через сосновую стойку! – в это самое время Грэйс Бентам спустилась с холма и проскользнула в хижину Клайда Уортона. Ждал ли ее Уортон в этот час или нет, не все ли равно? А вот если бы отец Рубо не увидел ее и не свернул в сторону с главной тропы, можно было бы избежать многих ненужных мучений и долгих месяцев томительного ожидания.
– Дитя мое...
– Погодите, отец Рубо! Я уважаю вас, хоть и не придерживаюсь вашей веры. Но я не позволю вам встать между этой женщиной и мной.
– Вы понимаете, на что вы идете?
– Понимаю ли я? Да если бы сам всемогущий Господь Бог явился ко мне вместо вас, чтобы ввергнуть меня в геенну огненную, я бы не отступил ни на шаг!
Уортон усадил Грэйс на табурет, а сам встал подле нее в воинственной позе.
– Сядьте вон на тот стул и молчите, – продолжал он, обращаясь к священнику. – Сейчас моя очередь; следующий ход будет ваш.
Отец Рубо вежливо поклонился и сел. Он был человек уступчивый и умел ждать. Придвинув себе другой табурет, Уортон сел рядом с Грэйс и стиснул ее руку в своей.
– Так ты любишь меня? Правда? И ты увезешь меня отсюда?
По лицу ее было видно, что ей хорошо и покойно с ним, что она наконец обрела приют и защиту.
– Ну конечно же, дорогая! Или ты забыла, что я тебе говорил?
– Но разве это возможно? Как же промывка?
– Стану я думать о промывке! Да я могу поручить это дело хотя бы вот отцу Рубо! Я могу попросить его доставить золотой песок Компании.
– И я его больше никогда не увижу!
– Какая потеря!
– Уехать... Нет, Клайд, я не могу! Не могу, понимаешь?
– Ну, успокойся же, милая! Конечно же, уедем. Положись во всем на меня. Вот только соберем кой-какие пожитки и сейчас же отправимся и...
– А если он сюда придет?
– Я переломаю ему все...
– Нет, нет! Клайд! Пожалуйста, без драки! Обещай же мне...
– Ну ладно. Я просто скажу рабочим, чтоб его выкинули с моего участка. Они видели, как он обходится с тобой, и сами не слишком-то любят его.
– Ах нет, только не это! Не причиняй ему боли!
– Что же ты хочешь? Чтобы я спокойно смотрел, как он тебя уведет?
– Н-нет, – сказала она полушепотом, нежно поглаживая его руку.
– Тогда предоставь действовать мне и ни о чем не беспокойся. Он останется цел, ручаюсь тебе! Он-то небось не задумывался, больно тебе или нет! В Доусон нам заезжать незачем; я дам туда знать, и кто-нибудь снарядит для нас лодку и пригонит ее вверх по Юкону. А мы тем временем перевалим через кряж и спустимся на плотах по Индейской реке, навстречу им. Потом...
– Что ж потом?
Ее голова лежала у него на плече. Их голоса замирали, каждое слово было лаской. Священник начал беспокойно ерзать на стуле.
– А потом? – повторила она.
– Что же потом? Будем плыть вверх, вверх по течению, затем волоком через пороги Уайтхорс и Ящичное ущелье.
– А дальше?
– Дальше по реке Шестидесятимильной, потом пойдут озера, Чилкут, Дайя, а там – и Соленая Вода.
– Но, милый, я ведь не умею управляться с багром...
– Глупенькая! Мы возьмем с собой Ситку Чарли; он знает, где пройдет лодка и где устроить привал; к тому же он лучший товарищ в пути, какого я знаю, даром что индеец. От тебя потребуется лишь одно – сидеть в лодке, петь песни и разыгрывать Клеопатру да еще сражаться с крылатыми полчищами... Впрочем, нет, нам ведь повезло: комаров еще нет.
– Дальше, дальше что, о мой Антоний?
– А дальше – пароход, Сан-Франциско и весь белый свет! И мы больше никогда не вернемся в эту распроклятую дыру. Только подумай! Весь мир к нашим услугам – поезжай куда хочешь! Я продам свою долю. Да знаешь ли ты, что мы богаты? Уолдвортский синдикат даст полмиллиона за мой участок, да у меня еще вдвое больше этого в сейфе Компании Тихоокеанского побережья и в отвалах. В тысяча девятисотом году мы с тобой съездим в Париж, на всемирную выставку. Мы можем поехать даже в Иерусалим, если ты только пожелаешь. Мы купим итальянское палаццо, и ты можешь там разыгрывать Клеопатру, сколько твоей душе будет угодно. Нет, ты у меня будешь Лукрецией[2] , Актеей[3] , кем тебе только захочется, моя дорогая! Только смотри не вздумай...
– Жена Цезаря должна быть выше подозрений!
– Разумеется, но...
– Но я не буду твоей женой, мой милый, да?
– Я не это хотел сказать.
– Но ты ведь будешь меня любить, как жену, и никогда, никогда... Ах, я знаю, ты окажешься таким же, как все мужчины. Я тебе надоем, и... и...
– Как не стыдно! Я...
– Обещай мне!
– Да! Да! Я обещаю!
– Ты так легко это говоришь, мой милый. Откуда ты знаешь? А я? Я так мало могу тебе дать, но это так много! Ах, Клайд! Обещай же, что ты не разлюбишь меня!
– Ну вот! Что-то ты рано начинаешь сомневаться. Сказано же: «Пока смерть не разлучит нас».
– Подумать только – эти самые слова я когда-то говорила... ему, а теперь...
– А теперь, мое солнышко, ты не должна больше об этом думать. Конечно же, я никогда-никогда...
Тут впервые их губы затрепетали в поцелуе. Отец Рубо, который все это время внимательно глядел в окно на дорогу, наконец не выдержал; он кашлянул и повернулся к ним.
– Ваше слово, святой отец!
Лицо Уортона пылало огнем первого поцелуя. В голосе его, когда он уступил свое место, звенели нотки торжества. Он ни на минуту не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грэйс – это было видно по улыбке, сиявшей на ее лице, когда она повернулась к священнику.
– Дитя мое, – начал священник, – сердце мое обливается кровью за вас. Ваша мечта прекрасна, но ей не суждено сбыться.
– Почему же нет, святой отец? Я ведь дала свое согласие.
– По неведенью, дитя мое! Вы не подумали о клятве, которую вы произнесли перед лицом Господа Бога, о клятве, которую вы дали тому, кого назвали своим мужем. Мой долг – напомнить вам о святости этой клятвы.
– А если я, сознавая всю святость клятвы, все равно намерена ее нарушить?
– Тогда Бог...
– Который? У моего мужа свой бог, и этого бога я не желаю почитать. И, верно, таких богов немало.
– Дитя! Возьмите назад ваши слова! Ведь вы не хотели это сказать, правда? Я все понимаю. Мне самому пришлось пережить нечто подобное... – На мгновение священник перенесся в свою родную Францию, и образ другой женщины, с печальным лицом и глазами, исполненными тоски, заслонил ту, что сидела перед ним на табурете.
– Отец мой, неужели Господь покинул меня? Чем я грешней других? Я столько горя вынесла с моим мужем; неужели и дальше страдать? Неужели я не имею права на крупицу счастья? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему!
– Не Бог тебя покинул, а ты покинула Бога. Возвратись. Возложи свое бремя на него, и тьма рассеется. О дитя мое!..
– Нет, нет! Все это уже бесполезно. Я вступила на новый путь и уже не поверну обратно, что бы ни ожидало меня впереди. А если Бог покарает меня, пусть, я готова. Где вам понять меня? Ведь вы не женщина.
– Мать моя была женщиной.
– Да, но...
– Христос родился от женщины.
Она ничего не ответила. Воцарилось молчание. Уортон нетерпеливо подергивал ус, не спуская глаз с дороги. Грэйс облокотилась на стол; лицо ее выражало решимость. Улыбка пропала. Отец Рубо решил испробовать другой путь.
– У вас есть дети?
– Ах, как я мечтала о них когда-то! Теперь же... Нет, у меня нет детей, и слава Богу.
– А мать?
– Мать есть.
– Она вас любит?
– Да.
Она отвечала шепотом.
– А брат?.. Впрочем, это не важно, он мужчина. Сестра есть?
Дрожащим голосом, опустив голову, она произнесла:
– Да.
– Моложе вас? На много?
– На семь лет.
– Хорошенько ли вы взвесили все? Подумали ли вы о них? О матери? О сестре? Она стоит на самом пороге своей женской судьбы, и этот ваш опрометчивый поступок может роковым образом сказаться на ее жизни. Хватит ли у вас духа прийти к ней, посмотреть на ее свежее, юное личико, взять ее руку в свою, прижаться щекой к ее щеке?
Слова священника вызвали рой ярких образов в ее сознании.
– Не надо, не надо! – закричала она, съежившись, как собака, над которой занесли плеть.
– Рано или поздно вам придется взглянуть правде в лицо. Зачем же откладывать?
В глазах его светилось сострадание, но их она не видела; лицо же его, напряженное, нервно подергивающееся, выражало непреклонность. Взяв себя в руки и с трудом удерживая слезы, она подняла голову.
– Я уеду. Они меня больше никогда не увидят и со временем забудут меня. Я сделаюсь для них все равно что мертвая... И... и я уеду с Клайдом... сегодня же...
Казалось, это был ее окончательный ответ. Уортон шагнул было к ним, но священник остановил его движением руки.
– Вы хотели иметь детей?
Молчаливый кивок.
– Вы молились о том, чтобы у вас были дети?
– Не раз.
– А сейчас вы подумали, что будет, если у вас появятся дети?
Отец Рубо бросил взгляд на мужчину, стоящего у окна.
Лицо женщины озарилось радостью; но в ту же минуту она поняла, что означал этот вопрос. Она подняла руку, как бы моля о пощаде, но священник продолжал:
– Представьте, что вы прижимаете к груди невинного младенца. Мальчика! К девочкам свет менее жесток. Да ведь самое молоко в вашей груди обратится в желчь! Как вам гордиться, как радоваться вам на вашего сына, когда другие дети...
– О, пощадите! Довольно!
– За грехи родителей...
– Довольно! Я вернусь! – Она припала к ногам священника.
– Ребенок будет расти, не ведая зла, покуда в один прекрасный день ему не швырнут в лицо страшное слово...
– Господи! О Господи!
Женщина в отчаянии опустилась на колени. Священник со вздохом поднял ее. Уортон хотел было подойти к ней, но она замахала на него рукой.
– Не подходи ко мне, Клайд! Я возвращаюсь к мужу! – Слезы так и струились по ее щекам, она не пыталась вытирать их.
– После всего, что было? Ты не смеешь! Я не пущу тебя!
– Не трогай меня! – крикнула она, отстраняясь от него и дрожа всем телом.
– Нет, ты моя! Слышишь! Моя!
Он резко повернулся к священнику.
– Какой же я дурак, что позволил вам читать тут проповеди! Благодарите Бога, что на вас священный сан, а не то бы я... Да, да, я знаю, вы скажете: право священника... Ну что ж, вы воспользовались им. А теперь убирайтесь подобру-поздорову, пока я не забыл, кто вы и что вы!
Отец Рубо поклонился, взял женщину за руку и направился с нею к дверям. Но Уортон загородил им дорогу.
– Грэйс! Ты ведь говорила, что любишь меня?
– Говорила.
– А сейчас ты любишь меня?
– Люблю.
– Повтори еще раз!
– Я люблю тебя, Клайд, люблю!
– Слышал, священник? – вскричал он. – Ты слышал, что она сказала, и все же посылаешь ее с этими словами на устах обратно к мужу, где ее ждет ад, где ей придется лгать всякую минуту своей жизни!
Отец Рубо вдруг втолкнул женщину во внутреннюю комнату и прикрыл за ней дверь.
– Ни слова! – шепнул он Уортону, усаживаясь на табурет и принимая непринужденную позу. – Помните: это ради нее, – прибавил он.
Раздался резкий стук в дверь, затем поднялась щеколда, и вошел Эдвин Бентам.
– Моей жены не видали? – спросил он после обмена приветствиями.
Оба энергично замотали головой.
– Я заметил, что ее следы ведут от нашей хижины вниз, – продолжал он осторожно. – Затем они видны на главной тропе и обрываются как раз у поворота к вашему дому.
Они выслушали его объяснения с полным безразличием.
– И я... я подумал, что...
– Что она здесь?! – прогремел Уортон.
Священник взглядом заставил его успокоиться.
– Вы видели, что ее следы ведут в эту хижину, сын мой?
Хитрый отец Рубо! Еще час назад, когда шел сюда по той же самой дорожке, он позаботился затоптать следы.
– Я не стал разглядывать, я... – Кинув подозрительный взгляд на дверь, ведущую в другую комнату, он перевел его на священника. Тот покачал головой. Бентам все еще колебался.
Сотворив про себя коротенькую молитву, отец Рубо поднялся с табурета.
– Ну, если вы мне не верите... – Он двинулся к двери.
Священники не лгут. Эдвин Бентам часто слышал эту истину и не сомневался в непреложности ее.
– Что вы, святой отец! – сказал он поспешно. – Просто я не пойму, куда это запропастилась моя жена, и подумал, что, может быть... Ах, верно, она пошла к миссис Стентон во Французское ущелье. Прекрасная погода, не правда ли? Слыхали новость? Мука подешевела – теперь фунт идет за сорок центов; и, говорят, чечако целым стадом двинулись вниз по реке. Однако мне пора. Прощайте!
Дверь захлопнулась. Они глядели в окно, вслед Эдвину Бентаму, который направился во Французское ущелье продолжать свои розыски.
Через несколько недель, как только спало июньское половодье, два человека сели в лодку, оттолкнулись от берега и набросили канат на плывущую в реке корягу; канат натянулся, и утлое суденышко поплыло вперед, как на буксире. Отец Рубо получил предписание покинуть верховье и вернуться к своей смуглой пастве в Минук. Там появились белые люди, и с их приходом индейцы забросили рыбную ловлю и стали усердно поклоняться известному божеству, нашедшему временное пристанище в несметных количествах черных бутылок. Мэйлмют Кид сопутствовал священнику, так как у него тоже были кое-какие дела в низовьях.
Только один человек во всей Северной Стране знал Поля Рубо, не миссионера-священника, не «отца Рубо», а Поля Рубо, простого смертного. Этот человек был Мэйлмют Кид. Только перед ним отец Рубо забывал свой священнический сан и представал во всей своей духовной наготе. Что же в этом удивительного? Эти два человека знали друг друга. Разве они не делились последней рыбешкой, последней щепоткой табаку, последней и сокровеннейшей мыслью – то на пустынных просторах Берингова моря, то в убийственных лабиринтах Великой Дельты, то во время поистине ужасающего зимнего перехода от мыса Барроу к Поркьюпайн!
Отец Рубо, попыхивая своей видавшей виды трубкой, глядел на алый диск солнца, которое угрюмо нависло над северным горизонтом. Мэйлмют Кид завел часы. Была полночь.
– Не стоит унывать, друг! – Кид, очевидно, продолжал ранее начатый разговор. – Уж, верно, Бог простит подобную ложь. Скажу я словами человека, который всегда знает, что сказать.
Если слово она проронила – молчанья храни печать,
И клеймо презренной собаки тому, кто не мог молчать!
Если Герворд беда угрожает, а спасет ее море лжи, —
Лги, покуда язык не отсохнет, а имеющий уши жив.
Отец Рубо вынул трубку изо рта и задумался:
– Он хорошо сказал, ваш поэт, но не это меня сейчас мучает. И ложь и кара за нее в руке Божьей, но... но...
– Но что же? Ваша совесть должна быть чиста.
– Нет, Кид. Сколько я ни думаю об этом, а факт остается фактом. Я все знал и все же заставил ее вернуться.
Звонкая песня зарянки раздалась на лесистом берегу, откуда-то из глубины донесся приглушенный зов куропатки, в затоне с громким плеском вошел в воду лось; два человека в лодке молча курили.