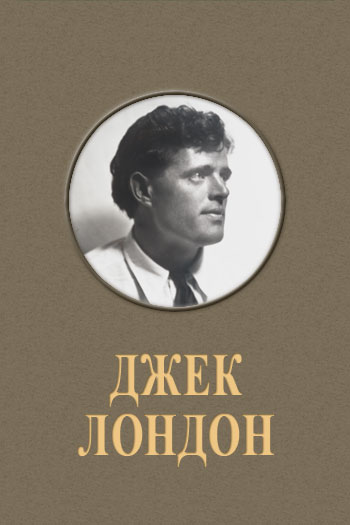- Когда боги смеются
А Чо не понимал по-французски. Отупев от усталости и скуки, он сидел в переполненном зале суда, прислушиваясь к картавой сухой трескотне французских слов, которыми сыпал то тот, то другой чиновник. Для А Чо это была чистейшая тарабарщина, и он дивился глупости французов, которые потратили столько времени, доискиваясь, кто убил Чун Га, и ничего в конце концов не доискались. Каждый из пятисот работавших на плантации кули знал, что это сделал А Сань, а его даже не арестовали. Правда, кули сговорились не доносить друг на друга властям, но, возьмись французы за дело как следует, они без особого труда дознались бы, что убийца — А Сань. До чего же это глупый народ — французы!
А Чо ничего дурного не сделал, и ему нечего было бояться. В убийстве он участия не принимал. Правда, он при этом присутствовал, и управляющий Шеммер, ворвавшись в барак, застал его там вместе с четырьмя-пятью другими китайцами. Ну и что ж? На теле Чун Га были только две раны. Ясно, что пять или шесть человек не могли нанести две ножевые раны. Даже если бы убийцы нанесли по одному удару, их не могло быть больше двух человек.
Так рассуждал А Чо, когда он и четверо его товарищей, отвечая на вопросы судьи, лгали, отпирались и путались в своих показаниях. Они услышали пронзительный вопль и, как и Шеммер, бросились к бараку, где совершалось убийстве. Но очутились они там раньше Шеммера, вот и все. Правда, в своих показаниях Шеммер утверждал, что, случайно проходя мимо барака, он остановился, привлеченный шумом ссоры, и простоял за дверью по меньшей мере минут пять, а когда вбежал в комнату, то уже застал там всех обвиняемых. Незадолго до него они никак не могли туда попасть, потому что он все время находился у единственного входа в барак. Ну и что ж? А Чо и четверо других обвиняемых настаивали на том, что Шеммер ошибся. В конце концов их все-таки отпустят. Они в этом не сомневались. Ведь нельзя же казнить за убийство пять человек, если на теле убитого только две ножевые раны. К тому же ни один белый дьявол не видел, как был убит Чун Га. Но эти французы такие глупые.
«То ли дело в Китае, — думал А Чо, — там судья велел бы их всех пытать и сразу узнал бы правду. Пыткой очень легко добиться истины. Но французы не применяют пыток, вот дурачье-то! Тем хуже для них, так они никогда не узнают, кто на самом деле убил Чун Га».
Однако А Чо понимал не все. Плантация принадлежала английской компании, и компания привезла на Таити пятьсот кули, потратив на это большие деньги. Акционеры требовали дивидендов, а компания пока ничего не выплачивала и вовсе не желала, чтобы законтрактованные рабочие, которые ей очень дорого обошлись, убивали друг друга. Наряду с этим и французским властям не терпелось доказать китайцам силу и превосходство французских законов. А в таких случаях лучше всего действует наглядный пример. Да и для чего же существует Новая Каледония, как не для того, чтобы ссылать туда пожизненно, на горе и муки, несчастных, повинных только в том, что они люди и подвержены соблазнам.
А Чо всего этого не понимал. Он сидел в зале суда и ждал, когда бестолковые судьи вынесут свое решение, которое освободит его с товарищами из тюрьмы и позволит им вернуться на плантацию отрабатывать оставшийся по контракту срок. Теперь уже скоро будет приговор. Разбор дела подходит к концу. Это по всему видно. Свидетелей больше не опрашивают, да и французские дьяволы перестали трещать. Даже они наконец уморились и ждут не дождутся решения суда. И в ожидании приговора А Чо стал припоминать, как он подписал контракт и сел на пароход, отправлявшийся на Таити. В приморской деревушке, откуда А Чо был родом, прокормиться становилось все трудней и трудней, и он не помнил себя от счастья, когда ему представился случай завербоваться на пять лет в южные моря, чтобы зарабатывать там по пятьдесят мексиканских центов в день. Мало ли взрослых мужчин в его деревне гнули спину целый год за десять мексиканских долларов, и мало ли женщин за половину этой суммы плели сети круглый год. В домах богатых лавочников служанкам платили в год четыре доллара. А он будет получать целых пятьдесят центов в день; за день, один-единственный день, такая куча денег! Не беда, что работа тяжелая! Через пять лет его отправят домой — так это и в контракте написано, — и больше он никогда не станет работать. Он вернется богатым, у него будут собственный дом, жена, дети, и ребятишки будут расти и почитать его… Да, вот еще что: за домом он разобьет маленький садик, уединенный уголок для размышлений и отдыха. Там у него будет крохотный пруд с золотыми рыбками и три или четыре деревца, а на них колокольчики, и чуть подует ветерок — они зазвенят. А сад свой он обнесет высокой стеной, чтобы ничто его не тревожило и он мог бы спокойно думать и отдыхать…
Что ж, три года из положенных пяти он уже отработал. Своим трудом сколотил себе состояние: на родине он и теперь считался бы богатым человеком. Еще каких-нибудь два года, и он навсегда расстанется с плантацией на Таити и сможет хоть до самой смерти все только думать и отдыхать у себя дома. Но сейчас он терпит убыток из-за того, что, на свою беду, оказался свидетелем убийства Чун Га. Три недели он провалялся в тюрьме и каждый день терял по пятьдесят центов. Ну, ничего, скоро суд решит, и он вернется на плантацию.
А Чо было двадцать два года. Добродушный, всегда веселый, он то и дело улыбался. Как и все азиаты, он был худощав, но лицо у него было полное, круглое, как луна, и излучало такое благодушие и душевную теплоту, какие редко встретишь у его соотечественников. И характер его соответствовал внешности. Никогда он никому не досаждал, никогда ни с кем не ссорился. Азартных игр не любил. Игрок должен быть черствым, а у него была очень нежная душа. Он довольствовался теми маленькими радостями и невинными утехами, которые доставляла ему сама жизнь. Он наслаждался тишиной и покоем прохладного вечера после изнурительного рабочего дня на хлопковом поле под палящим солнцем; мог часами сидеть, созерцая цветок, и философствовать о тайнах и загадках бытия. Голубая цапля на узкой косе песчаного берега, серебристые всплески летучих рыб или жемчужно-розовый закат над лагуной приводили его в такой восторг, что он забывал о веренице тягостных дней и о тяжелой плетке Шеммера.
Шеммер! Карл Шеммер был грубое животное, бездушная скотина. Но жалованье, которое платила ему компания, он окупал с лихвой, выколачивая все, что только можно было выколотить из пятисот ее рабов, ибо кули, пока не кончался срок их контракта, были те же рабы. Однако выжать всю силу из пятисот обливающихся потом тел и превратить эту силу в тюки готового на экспорт пушистого хлопка не так-то легко, и Шеммеру приходилось усердно трудиться. Осуществить это превращение он мог только благодаря своей первобытной грубости, бездушию и властному характеру. Немалую помощь оказывал ему при этом толстый кожаный ремень, с которым он постоянно разъезжал по плантации. Ремень этот, шириной в три дюйма и длиной в целый ярд, мог нежданно-негаданно опуститься на голую согнутую спину кули с треском, похожим на выстрел из пистолета. Когда Шеммер находился в поле, такие выстрелы слышались довольно часто.
Однажды, это было вскоре после того, как китайцев доставили на плантацию, Шеммер одним ударом кулака убил кули. Нельзя сказать, чтобы череп кули треснул, как яичная скорлупа, под кулаком Шеммера, но в голове у него что-то испортилось, и, проболев с неделю, он умер. Однако китайцы не пошли жаловаться к французским дьяволам, управлявшим Таити. Шеммер — это их собственная забота. И больше никому до этого дела нет. Нужно беречься его гнева, как бережешься ядовитого укуса сколопендр, что прячутся в траве и в дождливые ночи заползают в бараки. И китаезы — как прозвали их ленивые смуглокожие жители острова — старались не слишком раздражать Шеммера. Иными словами, они трудились до седьмого пота, лишь бы выполнить свой урок. Тяжелый кулак Шеммера повысил прибыли компании на десятки тысяч долларов, а ему лично не доставил ни неприятностей, ни хлопот.
Французы, вообще неумелые колонизаторы, не могли использовать природные богатства острова, и им оставалось только довольствоваться тем, что хоть английская компания преуспевает. Что им за дело до Шеммера и его страшного кулака? Смерть рабочего? Стоит ли говорить о каком-то китаезе! Да и умер-то он от солнечного удара, как показывало свидетельство врача. Правда, никто до сих пор еще не умирал на Таити от солнечного удара. Смерть этого китайца — исключительный случай. Именно так врач и написал в своем заключении, и он был вполне беспристрастен. Дивиденды должны быть выплачены, или же еще одно банкротство присоединится к длинному списку банкротств на Таити.
Этих белых дьяволов никак не поймешь. Сидя в зале суда и ожидая приговора, А Чо размышлял о загадочности этих людей. Никогда не знаешь, что у них на уме. И сколько он белых дьяволов ни встречал, все они были одинаковы: офицеры и матросы на корабле, французские чиновники, служащие на плантации, тот же Шеммер. Ход их мысли неуловим. Они приходят в ярость без всякой видимой причины, и ярость их всегда опасна. В такие минуты они не лучше диких зверей. Белые дьяволы расстраиваются из-за сущего пустяка, а при случае могут своей выдержкой превзойти даже китайца. Китайцы умеренны в пище и питье, а эти — обжоры, едят непомерно много, а пьют и того больше. Китаец никогда не может быть уверенным, ублаготворит он их или разгневает. Да разве это угадаешь? Что сегодня понравилось, завтра может привести в бешенство. Глаза белых дьяволов — словно окна, задернутые занавесками, скрывающими от взора китайца их внутренний мир. Но поразительнее всего невероятная энергия этих белых дьяволов, их умение делать вещи, вершить дела, добиваться желаемого и подчинять своей воле не только все, что живет и копошится на земле, но даже силу самих стихий. Да, белые люди — странные и удивительные существа! Ясно, что они дьяволы. Взять хотя бы того же Шеммера.
А Чо удивлялся, почему они так долго возятся с приговором. Никто из обвиняемых и пальцем не тронул Чун Га. А Сань убил его один, собственноручно. Он подскочил к Чун Га, одной рукой ухватил его за косу и запрокинул ему голову назад, а другой всадил в него нож. Всадил раз, потом еще раз. Сидя в зале суда с закрытыми глазами, А Чо снова видел перед собой всю сцену убийства: ссора, взаимная ругань, сквернословие, которым оба они марали память почтенных предков, проклятия, сыпавшиеся на не зачатых еще потомков, прыжок А Саня, его рука, вцепившаяся в косу Чун Га, удар ножом — раз и еще раз, распахнувшаяся дверь, неожиданное появление Шеммера, сутолока у выхода, исчезновение А Саня, ремень Шеммера, загнавший остальных в угол, и наконец выстрел из револьвера, на который к Шеммеру сбежались люди. Переживая все это сызнова, А Чо весь дрожал. Ударом ремня ему рассекло щеку и содрало с нее кожу. На эти следы указал Шеммер, когда, вызванный в качестве свидетеля, он опознал А Чо. Только теперь ссадина зажила. Вот это был удар! Еще полдюйма выше, и он остался бы без глаза. А потом картина убийства уступила место видению сада — собственного сада А Чо, где, вернувшись на родину, он будет предаваться размышлениям и покою.
Когда судья читал приговор, лицо А Чо было бесстрастно. Такими же бесстрастными были лица его товарищей. И они остались бесстрастными даже тогда, когда переводчик объяснил, что всех пятерых признали виновными в убийстве Чун Га и что А Чоу отрубят голову. А Чо сошлют на каторгу в Новую Каледонию на двадцать лет. Вон Ли — на двенадцать лет и А Тона — на десять. Что толку волноваться? А Чоу, и тот продолжал сидеть невозмутимый, как мумия, словно вовсе не ему собирались отрубить голову. Судья прибавил еще несколько слов, и переводчик разъяснил: физиономия А Чоу, всех больше пострадавшая от ремня Шеммера, настолько облегчила его опознание, что решили казнить его, поскольку все равно одного из обвиняемых казнить надо. Далее, так как лицо А Чо тоже сильно пострадало, что неопровержимо доказывает его присутствие при убийстве и его несомненное соучастие, то он присуждается к двадцати годам каторжных работ. И так вплоть до А Тона, получившего десять лет, каждому из осужденных объяснили, почему ему дается именно такой срок наказания. Пусть китайцы навсегда запомнят этот урок, сказал в заключение судья, и впредь пусть знают, что никакие силы не могут воспрепятствовать соблюдению закона на Таити.
Пятерых китайцев увели обратно в тюрьму. Они не были ни потрясены, ни опечалены. Неожиданность приговора их не удивила: имея дело с белыми дьяволами, они давно привыкли ничему не удивляться. От белых дьяволов, кроме неожиданного, нечего было и ожидать. Тяжкая кара за содеянное другим преступление не представлялась китайцам более странной, чем все остальные странные поступки белых дьяволов. В последующие недели А Чо часто с задумчивым любопытством приглядывался к А Чоу. Ему отрубят голову на гильотине, которую строят сейчас посреди плантации. Для него не будет ни преклонных лет, ни сада, где можно наслаждаться покоем. А Чо философствовал и размышлял о жизни и смерти. Собственная судьба его не волновала. Двадцать лет — это всего двадцать лет. С садом придется подождать, вот и все. А Чо был молод и, как все азиаты, терпелив. Он в силах ждать двадцать лет, к тому времени кровь у него поостынет, и он лучше сумеет оценить мирный покой своего сада. А Чо придумал ему название: он назовет его садом Утренней Тишины. Весь день радовался он своей выдумке и, вдохновившись, даже сочинил нравоучительную сентенцию о пользе терпения, каковая сентенция послужила немалым утешением для Вон Ли и А Тона. А Чоу, однако, сентенция не понравилась. Голову его должны были отделить от туловища через такой короткий срок, что ему не требовалось особого терпения, чтобы дождаться этого события. Он с наслаждением курил, с аппетитом ел, сладко спал и вовсе не находил, что время тянется слишком медленно.
Крюшо был жандарм. Он прослужил двадцать лет в колониях, побывал всюду — от Нигерии и Сенегамбии до островов южных морей, однако не видно было, чтобы за эти двадцать лет у него прибавилось сообразительности или ума. Крюшо был так же туп и ограничен, как и в дни своей юности, когда пахал землю где-то на юге Франции. Он преклонялся перед дисциплиной, боялся начальства, и вся разница между богом и каким-нибудь сержантом жандармерии заключалась для него лишь в степени рабского повиновения, которую им надлежало оказывать. По существу, если не считать воскресных дней, когда слово принадлежало служителям церкви, сержант значил для Крюшо неизмеримо больше, чем бог. Бог обычно был где-то далеко, а сержант большей частью находился поблизости.
Этому-то Крюшо и был вручен приказ судьи, предписывавший тюремщику сдать заключенного А Чоу жандарму для препровождения к месту казни. Но, как на грех, накануне вечером судья давал обед капитану и офицерам французского военного корабля. Рука у него дрожала, когда он писал приказ, а глаза так нестерпимо болели, что он не стал его перечитывать. В конце концов дело шло о жизни какого-то китаезы. И судья не заметил, что не дописал последней буквы в имени А Чоу. В приказе стояло «А Чо», и когда Крюшо предъявил документ, тюремщик и вывел к нему означенное лицо. Крюшо усадил это лицо рядом с собой в тележку, запряженную парой мулов, и уехал.
А Чо радовался, что попал на вольный воздух, на солнышко. Он сидел рядом с жандармом и блаженно улыбался. Заметив, что мулы повернули на юг, к Атимаоно, он весь просиял от счастья. Шеммер за ним послал. Шеммер хочет, чтобы он работал. Что же, за этим дело не станет. Шеммеру не на что будет пожаловаться. День выдался жаркий, пассата не было. Потели мулы, потел Крюшо, потел А Чо. Но А Чо переносил жару легче всех. Под таким солнцем он три года работал на плантации. Он все улыбался, и в улыбке его было столько непритворного благодушия, что даже в неповоротливом мозгу Крюшо шевельнулось сомнение.
— Какой ты, право, чудной, — сказал он наконец.
А Чо закивал и заулыбался еще радостнее. Не в пример судье Крюшо заговорил с ним на канакском наречии, которое А Чо наравне со всеми китайцами и иностранными дьяволами хорошо понимал.
— Что ты все зубы скалишь? — пожурил его Крюшо. — Плакать надо в такой день, а не смеяться.
— Я радуюсь, что вышел из тюрьмы.
— Только-то? — Жандарм пожал плечами.
— А разве этого мало? — последовал ответ.
— Значит, ты радуешься не тому, что тебе отрубят голову?
А Чо в полном недоумении уставился на жандарма, а потом сказал:
— Как? Ведь я же возвращаюсь на плантацию, в Атимаоно, я буду работать на Шеммера. Разве вы везете меня не в Атимаоно?
Крюшо в раздумье погладил свои длинные усы.
— Так, так, — проговорил он наконец, стегнув правого мула. — Выходит, ты ничего и не знаешь?
— А что я должен знать? — А Чо начинал одолевать какой-то смутный страх. — Неужели Шеммер не позволит мне больше работать?
— После того, что с тобой приключится сегодня, едва ли! — Крюшо от души рассмеялся своей остроумной шутке. — Видишь ли, после нынешнего дня ты уже не сможешь работать. Человек без головы, какой же это работник? — Тут он ткнул китайца большим пальцем под ребро и густо захохотал.
Мулы добрую милю трусили по самому солнцепеку, но А Чо все молчал. Потом он спросил:
— Разве Шеммер собирается отрубить мне голову?
Крюшо, ухмыляясь, кивнул.
— Это ошибка, — степенно проговорил А Чо. — Я совсем не тот китаеза, которому нужно отрубить голову. Я А Чо. По решению почтенного судьи я должен отбыть двадцать лет каторги в Новой Каледонии.
Жандарм так и покатился со смеху. Ну и умора с этим китаезой! Кого, чудак, вздумал надуть — гильотину! Мулы той же мелкой рысцой успели пробежать рощу кокосовых пальм и не меньше полумили по берегу сверкающего на солнце моря, прежде чем А Чо снова заговорил:
— Уверяю вас, я не А Чоу. Почтенный судья не говорил, что мне нужно отрубить голову.
— Да ты не бойся, — сказал Крюшо с похвальным намерением утешить своего пленника. — Это самая легкая смерть. А главное, скорая. — Он выразительно щелкнул пальцами. — Чик! Совсем не то, что болтаться на веревке, дрыгать ногами и строить рожи целых пять минут. Видел ведь, как режут цыплят тяпкой? Один удар — и голова прочь. То же самое и с человеком. Раз — и готово! Совсем не больно. Даже и подумать не успеешь, что больно. Вовсе не думаешь. Головы нет — значит, и думать нечем. Прекрасная смерть! Лучшей смерти и себе не пожелаешь. Я хотел бы так умереть — быстро, сразу. Тебе, прямо сказать, повезло. Ты бы мог заболеть проказой и медленно, по частям разлагаться: сначала один палец на руке сгниет и отвалится, потом другой, а там, глядишь, и на ногах началось. Я знал человека, которого ошпарили кипятком. Так он два дня не мог умереть. А как кричал-то — за километр было слышно. А ты? Ты отделаешься легко. Нож резнет по шее — чик, и все кончено. Еще, может, щекотно будет. Почем знать? Те, кто этим манером отправлялся на тот свет, назад не возвращались, не рассказывали.
Свои последние слова Крюшо счел превосходной шуткой и с полминуты корчился от смеха. Веселость его была отчасти притворная, но он почитал долгом человеколюбия ободрить китаезу.
— Но, послушайте, ведь я же А Чо, — настаивал тот. — И я не хочу, чтобы мне отрубили голову.
Крюшо нахмурился. Этот китаеза чересчур много себе позволяет.
— Я не А Чоу… — заикнулся было А Чо.
— Довольно! — прервал его жандарм и надул щеки, стараясь придать себе грозный вид.
— Но, послушайте, ведь я же не… — снова начал А Чо.
— Молчать! — рявкнул на него Крюшо.
После этого они ехали молча. От Папеэте до Атимаоно двадцать миль, и, когда А Чо снова решился заговорить, более полпути было уже сделано.
— Я видел вас на суде, когда почтенный судья разбирал наше дело, — начал он. — Так вот, не потрудитесь ли вы вспомнить, что А Чоу, которому должны отрубить голову… Да вы, конечно, помните, что он — я хочу сказать А Чоу — высокого роста? А теперь посмотрите на меня…
Он вдруг поднялся, и Крюшо увидел, что его спутник — человек низкорослый. Так же внезапно в памяти Крюшо возникла длинная фигура А Чоу. Конечно, А Чоу высокого роста. Для жандарма все китайцы были на одно лицо и как две капли воды походили друг на друга. Но отличить высокого от низкорослого он все же мог и теперь вынужден был признать, что рядом с ним в тележке сидит не тот заключенный. Крюшо так резко осадил мулов, что дышло выперло вперед и приподняло хомуты.
— Теперь вы видите, что это ошибка? — вежливо улыбаясь, сказал А Чо.
Но Крюшо размышлял. Он уже пожалел, что остановил мулов. Об ошибке судьи он ничего не знал и не мог разобраться в ней своим умом; одно только он знал твердо: ему сдали на руки этого китаезу, чтобы отвезти его в Атимаоно, и туда его и надо доставить по долгу службы. Может быть, это и не тот человек, и ему зря отрубят голову. Но ведь это только китаеза, а что такое китаеза в конце концов? Кроме того, тут, может быть, и нет никакой ошибки. Почем он знает, что на уме у начальства? Это — их дело, им видней. И кто он такой, чтобы думать за них? Когда-то он попробовал за них подумать, так сержант сказал ему: «Ты, Крюшо, олух! Заруби себе это на носу. Твое дело — не думать, а повиноваться, — думать предоставь тем, кто поумнее тебя». Вспомнив об этом, Крюшо даже покраснел от досады. Потом, если он повернет назад в Папеэте, казнь в Атимаоно задержится, а если он к тому же окажется неправ, то получит хороший нагоняй от сержанта. Да и в Папеэте ему не избежать выговора.
Крюшо хлестнул мулов, и тележка покатила дальше. Он взглянул на часы. И так уж опоздали на полчаса, и сержант, конечно, будет ругаться. Он погнал мулов еще быстрей. И чем настойчивее А Чо твердил ему об ошибке, тем упорнее молчал Крюшо. Уверенность, что он везет не того заключенного, не могла улучшить его настроение. Но сам-то он тут ни при чем: значит, поступая неправильно, он поступает по правилам! А Крюшо, лишь бы не навлечь на себя гнева сержанта, с готовностью препроводил бы на тот свет хоть с десяток ни в чем не повинных китаез.
Что же касается А Чо, то, после того как жандарм ударил его по голове рукояткой кнута и грозно приказал замолчать, ему ничего другого не оставалось. Так они продолжали свой долгий путь молча. А Чо размышлял о том, как непонятны все поступки белых дьяволов. Им не найдешь никакого объяснения. То, что они делают с ним сейчас, под стать всем прочим их действиям. Сперва они обвинили в убийстве пятерых невинных людей, теперь хотят отрезать голову тому, кого даже сами в своем невежестве признали заслуживающим только двадцати лет каторги. И он ничего не может поделать. Ему остается только сидеть сложа руки и ждать, что решат за него эти повелители жизни и смерти. Была минута, когда его охватил ужас и по всему телу выступил холодный пот, потом он пересилил себя. Он старался покориться своей судьбе, вспоминая и повторяя отрывки из «Инь цзи вэнь» («Трактата о пути к спокойствию»); но вместо этого ему упорно представлялся сад Покоя и Размышлений. Это сбивало его, и наконец он отдался своей мечте и очутился в саду. Он сидел там, прислушиваясь к нежному звону колокольчиков. И что же! Стоило ему перенестись туда в своих грезах, как он тотчас вспомнил и повторил отрывки из «Трактата о пути к спокойствию».
Погруженный в эти приятные размышления, А Чо и не заметил, как они достигли Атимаоно, и очнулся только тогда, когда тележка остановилась у подножия эшафота, в тени которого их с нетерпением ожидал сержант. А Чо быстро повели по лесенке на помост. Очутившись там, он увидел внизу море голов. Тут собрались все кули с плантации. Считая, что это зрелище послужит кули хорошим уроком, Шеммер велел им прекратить работу, и всех их пригнали смотреть на казнь. Увидев А Чо, кули начали между собой перешептываться. Они заметили ошибку, но не захотели вмешиваться. Непостижимые белые дьяволы, видимо, передумали и вместо того, чтобы казнить одного невинного, казнят теперь другого. А Чо или А Чоу — все едино! Никогда китайцам не понять этих белых собак, так же как и белым собакам никогда не понять китайцев. А Чо отрубят голову, но сами они, проработав оставшиеся два года, возвратятся обратно в Китай.
Шеммер сам соорудил гильотину. Он никогда не видел этой машины, но, будучи мастером на все руки, смело принялся за дело, расспросив предварительно французских чиновников об ее устройстве. По его предложению французские власти распорядились, чтобы казнь состоялась в Атимаоно, а не в Папеэте. Убийца должен понести заслуженную кару там, где было совершено преступление, доказывал Шеммер, а, кроме того, зрелище казни окажет благотворное влияние на пятьсот кули, работающих на плантации. Шеммер вызвался также взять на себя обязанности палача и теперь стоял на помосте, проверяя действие построенного им механизма. Под гильотину подложили банановое дерево толщиной примерно в человеческую шею. А Чо, как зачарованный не мог отвести от него глаз. Немец повернул небольшой ворот, поднял нож до верхней перекладины, потом дернул веревку, и нож, сверкнув, упал вниз. Ствол банана был аккуратно разрезан на две части.
— Ну, как? — спросил, поднявшись на помост, сержант.
— Работает на славу, — с гордостью ответил Шеммер. — Сейчас я вам покажу.
Он снова повернул ворот, подымающий нож, дернул веревку, и нож стремительно скользнул вниз. На этот раз он врезался в мягкое дерево только на две трети его толщины.
Сержант насупился.
— Это не годится, — сказал он.
Шеммер вытер выступивший на лбу пот.
— Надо сделать поувесистей, — сказал он и, подойдя к краю помоста, приказал кузнецу подать ему двадцатипятифунтовый железный брус.
Когда Шеммер стал прилаживать брус к верхнему широкому краю ножа, А Чо взглянул на сержанта и решил: теперь или никогда.
— Почтенный судья сказал, что голову отрубят А Чоу, — начал он.
Сержант нетерпеливо кивнул. Он думал о предстоящей ему в этот день поездке за пятнадцать миль к наветренной стороне острова и о дожидавшейся его там хорошенькой мулатке Берте, дочери торговца жемчугом Лафьера.
— А я не А Чоу. Я А Чо. Почтенный тюремщик нас перепутал. А Чоу высокого роста, а я, как видите, низкого.
Сержанту достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в ошибке.
— Шеммер! — повелительно крикнул он. — Подите сюда.
Немец что-то буркнул, но не тронулся с места до тех пор, пока брус не был укреплен как следует.
— Ну, готов ваш китаеза?
— Да вы взгляните на него, — последовал ответ. — Разве это тот?
Шеммер сперва даже опешил. Несколько секунд он забористо ругался, с сожалением поглядывая на сооруженную собственными руками машину, которую ему очень хотелось испытать.
— Вот что, — сказал он наконец, — откладывать никак нельзя. Мои пятьсот китайцев лодырничают здесь уже три часа. Не могу же я терять еще три часа работы из-за того, что нам подсунули другого кули. Так или иначе, дело надо довести до конца. Ведь это же всего-навсего китаеза.
Сержант вспомнил предстоящую ему утомительную поездку, вспомнил хорошенькую дочь торговца жемчугом и призадумался.
— Даже если это раскроется, все свалят на Крюшо, — настаивал немец. — Но как это может раскрыться? А Чоу, во всяком случае, не пойдет жаловаться.
— Крюшо тут ни при чем, — возразил сержант. — Видимо, тюремщик спутал.
— Так нечего и откладывать. Как бы там ни было, мы не виноваты. Разве этих китаез отличишь одного от другого? Скажем, что выполняли инструкцию, а какого нам китаезу прислали, это уж дело не наше. Да я просто не могу вторично отрывать всех кули от работы.
Они разговаривали по-французски, и, хотя А Чо не понимал ни слова из их разговора, ему было ясно, что сейчас решается его судьба. Ему также было ясно, что последнее слово принадлежит сержанту, и он, не отрываясь, смотрел ему в рот.
— Так и быть, — решился наконец сержант. — Валяйте! Ведь это всего-навсего китаеза.
— Испытаем еще раз для верности. — Шеммер пододвинул ствол банана и снова поднял нож к верхней перекладине.
А Чо пытался вспомнить изречение из «Трактата о пути к спокойствию». «Живи в мире со всеми», — пришло ему на ум, но тут это было неприменимо. Жить ему не придется. Сейчас он умрет. «Прощай злобствующих»… но чью злобу ему прощать? Шеммер да и все остальные действовали без всякой злобы. Для них это была работа, которую нужно выполнить, — такая же, как расчистка джунглей, постройка плотины, разведение хлопка. Шеммер дернул веревку, и А Чо позабыл про «Трактат о пути к спокойствию». Нож опустился, начисто отделив кусок ствола.
— Чудесно! — воскликнул сержант, поднося спичку к папиросе. — Чудесно, друг мой!
Шеммеру было приятно, что его похвалили.
— Поди сюда, А Чоу! — приказал он на таитянском наречии.
— Но я не А Чоу, — начал было тот.
— Молчать! — прервал его грозный окрик Шеммера. — Раскрой только рот, я тебе голову проломлю.
Немец погрозил А Чо кулаком, и тот замолчал. Что толку спорить? Все равно белые дьяволы сделают по-своему. А Чо дал себя привязать к поставленной стоймя доске вышиной в человеческий рост. Шеммер так туго стянул ремни, что они врезались в тело А Чо. Ему было больно, но он не жаловался. Боли скоро не станет. Он почувствовал, что доска опрокидывается, и закрыл глаза. В тот же миг перед ним предстал его сад Размышления и Покоя. Ему казалось, что он сидит в саду. Ветер навевал прохладу, и колокольчики нежно звенели в ветвях. Птицы сонливо чирикали, а из-за высокой стены доносился приглушенный шум деревенской жизни.
Потом А Чо почувствовал, что доска остановилась, и по тому, как напряглись одни и расслабились другие мышцы, понял, что лежит на спине. Он открыл глаза. Прямо над ним, сверкая на солнце, висел нож. Он увидел подвешенный Шеммером брус и заметил, что один из узлов распустился. Потом он услышал резкий голос сержанта, отдававшего команду. А Чо поспешно закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как опустится нож. Но он его почувствовал — на одно мимолетное и бесконечное мгновение. И в это мгновение он вспомнил Крюшо и то, что Крюшо говорил. Но Крюшо ошибся. Нож не щекотал. Это было последнее, о чем он подумал, перед тем как навсегда перестал думать.